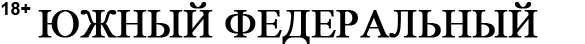Федеральному центру на Северном Кавказе предстоит выбор из двух зол
Президент Дагестана Муху Алиев провел вчера экстренное заседание совета безопасности республики, посвященное убийству пятерых человек в кафе «Встреча» на Буйнакском перевале. Убийство произошло вечером в воскресенье, когда в кафе подходило к концу празднование дня рождения прокурора Унцукульского района. Жертвами расстрела стали офицер управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Дагестана Омарасхаб Омарасхабов, директор республиканского интерната престарелых и инвалидов Низамудин Асельдеров, его шофер Исабек Гашимов, заместитель имама главной мечети Махачкалы по хозчасти Магомед Магомедов и глава Унцукульского района Казимбек Ахмедов.
Министр внутренних дел Дагестана Адильгирей Магомедтагиров рассказал членам совбеза, что стрелявшие сразу же спросили главу района. И раз так, остальных можно считать случайными жертвами. Искренне опечаленный Муху Алиев назвал Казимбека Ахмедова одним из «зеркально чистых» глав муниципальных образований, таким образом, он вроде бы намекнул, что коммерческий мотив исключен. Значит, главу района убили именно как главу района. Соответственно, причину случившегося надо искать в районе.
А в районе практически весь прошлый год проводилась и теперь периодически возобновляется контртеррористическая операция, масштабы которой сопоставимы с небольшой локальной войной. Именно здесь, в горных окрестностях Гимры, родного аула легендарных имамов Шамиля и Гази-Магомеда, у выхода из стратегического тоннеля, соединяющего горный и приморский Дагестан, находится эпицентр активности одной из мощнейших группировок дагестанских боевиков. Даже если в конце концов следствие выяснит, что главу района убили не боевики и не за содействие властям в борьбе с подпольем, пока эта версия напрашивается сама собой. Но в конце заседания президент Дагестана попросил не приписывать все преступления религиозным экстремистам: «Здесь нет никаких религиозных экстремистов», -- объявил г-н Алиев.
Едва ли президент Дагестана хотел показаться наивным или выдать желаемое за действительное. Он таким образом просто предложил министру внутренних дел как можно более объективно оценить ситуацию и не вешать заранее всех собак на исламское подполье, как это часто случалось при предшественнике Муху Алиева -- Магомедали Магомедове. Муху Алиев, сменивший Магомедали Магомедова уже почти три года назад, сразу же попытался смягчить риторику в отношении той части мусульман, которая не хотела признавать официального муфтията и авторитет общепризнанных суфийских шейхов.
Дагестан, напомним, после войны в августе -- сентябре 1999 года оказался единственным регионом, где был принят региональный закон о борьбе с так называемым ваххабизмом. Этот закон, который правоохранительные органы были склонны в некоторых случаях трактовать чрезвычайно широко, при новом президенте отменен не был. Но Муху Алиев призвал своих подчиненных быть как минимум осторожнее в терминологии, чтобы не выходило, что каждый, кто тщательно исполняет предписания Корана, автоматически превращался в боевика. Желательно было также смягчить методы работы правоохранителей, чтобы задержанные за подозрительную бороду, но отнюдь не являющиеся сторонниками вооруженного свержения светской власти, не исчезали после задержаний бесследно или не выходили из изоляторов готовыми к любой мести за то обращение, которому их там подвергли.
Религиозные экстремисты много лет были, а во многих случаях и остаются удобной ширмой, за которую в Дагестане, да и на всем Северном Кавказе, можно спрятать коммерческие разборки, войны за должности, политическую конкуренцию. Вообще практически любое зло, причем без особой необходимости что-либо доказывать и добиваться суда над реальными виновниками. Тему религиозного подполья, бесспорно, из года в год «продавали» федеральному центру: каждый региональный руководитель с тревогой на лице объяснял в Кремле, что если не наращивать федеральные дотации и не давать ему право распоряжаться ими, регион захлестнет террористическая война.
В этом смысле, конечно, решимость президента Дагестана добиться поиска реальных виновников расстрела на Буйнакском перевале заслуживает всяческого уважения. Но согласиться с его утверждением о том, что религиозных экстремистов в Дагестане нет, увы, невозможно.
Идеологический переворот в кавказском подполье начался задолго до второй войны в Чечне (1999) и окончательно оформился осенью 2007 года. Смысл этого переворота сводится к тому, что этнический сепаратизм с его митингами или даже войнами за самоопределение сдал свои позиции исламской идее. Амир чеченских боевиков Доку Умаров, подпольный преемник избранного в 1997 году всенародным голосованием президента сепаратистской Ичкерии Аслана Масхадова (убит в марте 2005 года), сложил с себя президентские полномочия и объявил себя амиром Кавказа, ведущего моджахедов на войну за установление на всем Северном Кавказе шариатского правления. Северный Кавказ, объявил Умаров, будет «землей войны», пока не станет «землей ислама».
С этого момента война во все большей степени становится не только и не столько войной фугасов, засад против федеральных и милицейских зачисток и штурмовых операций, сколько войной за души и головы, войной идей. Вполне мирные эксперты по исламу, посвятившие немало лет изучению этой религии, признают: с одной из основных посылок главных умаровских проповедников -- кабардинца амира Сейфуллы и Саида Бурятского -- спорить невероятно сложно. Проповедники священной войны исходят из того, что ислам -- в том числе и политическая религия, догмы которой описывают надлежащее устройство общества и государства. Любой, кто этими нормами пренебрегает, мирится с устройством, которое не соответствует заповеди пророка и при этом считает себя мусульманином, -- лицемер.
Число тех, кто уже идет по пути религиозной войны на Северном Кавказе, пока сравнительно невелико. Но с учетом того, что люди привыкли видеть в официальных муфтиятах просто «идеологические отделы» региональных администраций, становится ясно, что слова воинственных проповедников находят как минимум внимательных слушателей.
Часто утверждают, что терроризм и пособничество терроризму на Кавказе -- это никакая не священная война, а исключительно своеобразный способ заработать деньги. В виде пособий от ближневосточных спонсоров, в виде дани, собранной с перепуганных чиновников, в виде гонорара от тех же чиновников, стремящихся ликвидировать других чиновников самыми разнообразными способами. Но для того, чтобы видеть в идущей в регионе диверсионной войне исключительно финансовый подтекст, надо либо совсем не знать Кавказа, либо осознанно стремиться к искажению действительности.
Кавказские регионы даже в богатые годы высоких нефтяных цен и раздольных бюджетов не покидали нижних строчек в федеральных рейтингах благосостояния, производства и наличия рабочих мест. Однако 100 долл. за фугас отнюдь не были там единственной возможностью выжить. Если взглянуть, например, на данные убитых и задержанных во время атаки на Нальчик в октябре 2005 года, станет ясно, что автомат далеко не во всех случаях оказался в руках наивного молодого человека из села, безработного (а потому злого и готового стать наемником) и необразованного (а потому -- легкую жертву хитрых провокаторов). Даже милиционеры, имеющие дело с боевиками «на земле», признают, что среди них много вполне образованных людей из почтенных семей, имеющих профессию и дело, но осознанно выбирающих свой путь. Значит, дело не только и не всегда в деньгах.
У представителей северокавказских народов, как и у многих других традиционных обществ, обострено чувство справедливости. Если возникают основания считать, что справедливость на стороне воюющих, не требуются никакие деньги для того, чтобы завербовать человека в их ряды. И скорее всего не хватит никаких зарплат и бюджетных льгот для того, чтобы вытащить его обратно, если не будет, как у Рамзана Кадырова в Чечне, альтернативной идеи. Вероятно, внутри северокавказского подполья есть и коммерческие интересы, и движение довольно значительных денежных средств. Но те эксперты, которые думают, что деньги в данном случае -- основной инструмент манипулирования сознанием, опасно заблуждаются. Может быть, кто-то из проповедников или амиров и сидит на гонорарах из-за границы. Но те, к кому они обращаются, слушают их с самым искренним интересом, и возникающие в связи с этим «движения души» -- это опаснейший фермент, который в довольно короткий срок может радикально изменить весь облик Северного Кавказа.
Недооценка религиозного фактора на Кавказе началась еще в начале 1990-х, когда почти повсеместно в кавказских республиках открывались филиалы исламской партии «Возрождение». Партия выглядела как одно из демократических движений, сформированных перестройкой, и отнюдь не провозглашала никаких фундаменталистских целей -- просто ее ячейки в целом ряде случаев стали основой нынешней экстремистской сети. Далее, идейные противоречия между лидерами Чечни, получившей фактическую свободу после войны 1994--1996 годов (строить светскую демократию или исламский халифат), прошли словно незамеченными для большой части российского экспертного сообщества. Между тем эта дилемма едва не поставила Чечню на грань очередной гражданской войны. И уж в любом случае Чечня, воевавшая против федералов осенью 1999 года, очень сильно отличалась от Чечни 1994-го, все еще воодушевленной идеей сепаратизма.
Официальная трактовка событий в Дагестане в 1999 году -- «рейд Басаева» -- по сути, ошибочна, потому что игнорирует важнейший момент. Боевики Басаева пришли в Дагестан не как сепаратисты, которые хотели «экспорта революции», а как моджахеды, пришедшие поддержать выступление общины своих «братьев по вере» в высокогорном Дагестане, а потом еще в Новолаке и Кадарском треугольнике.
Тогдашний премьер-министр РФ Сергей Степашин в 1998 году ездил в Кадарский треугольник, который уже тогда существовал под арабской вывеской «Территория шариатского правления» и практиковал палочные наказания, и хвалил тамошних толковых хозяйственных ребят, что год спустя под командованием Хаттаба и «генералов» Мухтара и Джаруллы отбивались от федеральной армии. Хвалил, видимо, потому, что они казались меньшим злом, чем соседняя сепаратистская Чечня. А в Чечне, между прочим, до сих пор говорят, что если бы не тот правительственный визит к дагестанским «ваххабистам», масхадовские «умеренные» при поддержке Москвы взяли бы верх над фундаменталистами, и очень возможно, что второй чеченской войны можно было бы избежать.
Уже в 2000-х стало, кажется, наконец, понятно, что религиозный фундаментализм стал мотором войны на Кавказе. И противопоставить ему федеральная власть не может, по сути, ничего, кроме традиционных местных ценностей (потому что с реально разделяемыми всеми общероссийскими ценностями наметилась явная проблема). Но местные ценности с неизбежностью опирались на местный этнический национализм. Поэтому новая эффективная элита Чечни и сформировалась в итоге из бывших сепаратистов. Поэтому и нет ничего неожиданного в том, что Рамзан Кадыров ведет себя как националист в академическом смысле этого слова, как национальный лидер, апеллирующий к этническим традициям и старающийся -- по меньшей мере, публично -- им следовать. Во второй чеченской войне не столько Россия победила и подчинила Чечню, сколько националисты в Чечне победили сторонников отказа от традиционных суфийских верований и немедленного учреждения исламского халифата.
Теперь приблизительно сходным образом развивается ситуация в Ингушетии: новому президенту Юнус-Беку Евкурову необходима опора на национальные традиции, чтобы привлечь большинство гражданского населения на сторону власти в борьбе с религиозными экстремистами. Апелляция к национализму в Ингушетии требует огромной аккуратности, потому что она актуализирует множество проблем, главная из которых, конечно, этнотерриториальный конфликт в Осетии. Опасения центра в этой связи оправданы и понятны. И вполне разумно, что съезд ингушского народа в минувшую субботу был проведен все-таки без пафоса национальных митингов начала 1990-х. Но другой идеи, которая смогла бы сейчас сплотить лояльную публику вокруг легального руководства, по большому счету не видно: общероссийская идентичность на нынешнем Северном Кавказе слишком противоречива и эфемерна.
В принципе прошлогоднее признание Москвой Абхазии и Южной Осетии -- это тоже уступка национализму, причем не только абхазскому и осетинскому национализму в Грузии, но и целому букету кавказских национализмов в самой России. Однако именно пример фактического отделения Абхазии и Южной Осетии от Грузии показывает, к какому результату может привести при определенных обстоятельствах развитие этнического национализма.
Хотя националистические движения на большей части Северного Кавказа стали заметно менее активны в течение 2000-х годов, там все еще существует целый ряд этнических конфликтов, актуализация которых небезопасна. Эта цепочка протянулась от андийских сел Дагестана через Чечню и зону осетино-ингушского конфликта к балкарским муниципалитетам в окрестностях Нальчика, к ногайским и абазинским движениям в Карачаево-Черкесии, сложным отношениям адыгов с русскими в Адыгее и к гипотетической Черноморской Шапсугии в Краснодарском крае, совсем рядом с будущей столицей зимней Олимпиады 2014 года. Часть этих конфликтов и так уже вернулись в повестку дня в связи с проведенными или готовящимися (как в Чечне и Ингушетии) муниципальными реформами.
Кроме того, национализм у многих местных жителей часто ассоциируется с этнократами, закрепившимися у власти в результате волны национальных движений начала 1990-х годов. С тех пор они успели стать объектами ненависти со стороны населения из-за коррупции и стремления любой ценой удержаться «в седле». Национальные лидеры «нового призыва» -- это руководители, подчеркнуто не имеющие отношения к старой, дискредитированной этнократии: в кадыровской Чечне ее перемололи две войны, Евкуров в Ингушетии совершает чудеса аппаратной эквилибристики, стараясь очистить от нее свою и без того коротенькую «скамейку запасных».
Еще один нюанс в том, что национализм и исламская идея в некоторых кавказских случаях неотделимы друг от друга. В конце концов не так важно, кто вводит элементы шариата в общественную жизнь региона -- лояльный националист Рамзан Кадыров или бородатый «джихадист»-подпольщик. В обоих случаях это означает постепенное размывание общенационального политического, социального, правового и культурного пространства, восстанавливать которое всегда гораздо труднее, чем сохранить.